ЗАКЛЯТЬЕ ТРЁХ ПОЭТОВ
ЭССЕ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ — СТАНИСЛАВ ЗОЛОТЦЕВ «У ПОДНОЖЬЯ СИНИЧЬЕЙ ГОРЫ»,
★ ★ ★ ★ ★
«ЗАКЛЯТЬЕ» — одна из самых известных и исполняемых песен-баллад Евгения Мартынова. Её сюжетные перипетии слушатели порой связывают с личной судьбой композитора, не беря во внимание личность автора стихов, лёгших в основу этого песенного творения и давших ему своё название. Да и режиссёры музыкальных программ, посвящённых памяти Евгения Мартынова, тоже склонны выстраивать свои сюжетно-сценарные линии словно направляя их к некому итогу, заложенному изначально в поэтическом первоисточнике, а уж потом воплощённому в песне и музыке.
Предлагая вниманию посетителей нашего сайта балладу «Заклятье» в авторском исполнении, мы решили не просто порадовать всех таковой новостью, но использовать её как повод для освещения подлинных фактов истории, в частности касающихся создания 35 лет назад этой драматичной песенной исповеди, ставшей лауреатом телефестиваля «Песня-81». Правда, в 1981 году на фестивальном гала-концерте балладу исполнил не сам композитор, являясь признанным эстрадным певцом, а молодая литовская певица Бируте Петриките. Она, по воле председателя Гостелерадио СССР Сергея Лапина, почти в последний момент заменила и Евгения Мартынова, и готовившуюся к съёмке певицу Ирину Понаровскую… Но сейчас речь не об исполнителях баллады, а об авторах.
Увы, мало кто из нынешних любителей эстрады достаточно хорошо знаком с творчеством и жизненной судьбой поэта Назрула Ислама, писавшего на бенгальском языке. Мало кому известна и судьба русского переводчика его стихов — Михаила Курганцева. Да и конкретные обстоятельства сочинения Евгением Мартыновым музыки к совсем не песенному поэтическому опусу индийского лирика (в русскоязычной версии) тоже известны не многим. Из нескольких печатных и телевизионных источников поклонникам композитора известно, пожалуй, лишь то, что советский сборник стихов Н.Ислама в конце 70-х годов случайно попал в руки Юрия Мартынова — и тот решил показать понравившееся ему стихотворение брату, Евгению. Ещё может быть кому-то известно, что в дальнейшем из-за претензий на исключительное право исполнения «Заклятья» произошёл неожиданный разрыв творческих взаимоотношений между композитором и певицей Софией Ротару. И всё. Но история и судьба этой глубокой, неординарной песни гораздо объёмнее. И вы убедитесь в том, познакомившись с книгой писателя Станислава Золотцева «У подножья Синичьей горы», а конкретнее — с её главой, называющейся «ЗАКЛЯТЬЕ ТРЁХ ПОЭТОВ» (Эссе. История одной песни). Прочитайте это уникальное эссе человека, довольно близко знавшего Евгения Мартынова, — и вы откроете для себя не только интересные события из жизни писателя (его не стало в 2008 году), но и важные исторические факты, связанные с судьбой одного из классиков поэзии 20 века, а также сможете окунуться в биографические и частно-бытовые обстоятельства, характеризующие личности двух наших недавних современников — поэта-переводчика и композитора-певца. А главное, вы узнаете, что судьбы всех троих творцов, как оказалось, незримо связаны между собой, соединены творческой и, можно сказать, трагичной нитью. Да и уходили соавторы «Заклятья» как-то «по очереди» — друг за другом, словно сделав каждый свою часть одного общего дела…
Но перед тем, как приступить к чтению эссе, сначала послушайте и посмотрите музыкальный видеоклип — с биографическим для композитора подбором фотоиллюстраций (хотя кто-то мог его видеть и ранее — в нашей телепрограмме «Песня о моей любви»). А для полноты информации сообщаем также, что видеоматериал, лёгший в основу клиповой композиции, был снят в Алма-Ате, точнее на арене Алма-Атинского цирка в 1982 году — для музыкальной телепрограммы «Тамаша». Евгений Мартынов любил выступать в Казахстане — и данная, незамысловатая телесъёмка является лишним подтверждением тому.
(Литературный и видео-музыкальный материал подготовили: Ю.Мартынов, В.Крюков, В.Смукрович и В.Макарихин. За предоставление «Клубу» официально изданного эссе Станислава Золотцева «Заклятье трёх поэтов» благодарим Золотцеву Ольгу Николаевну.)
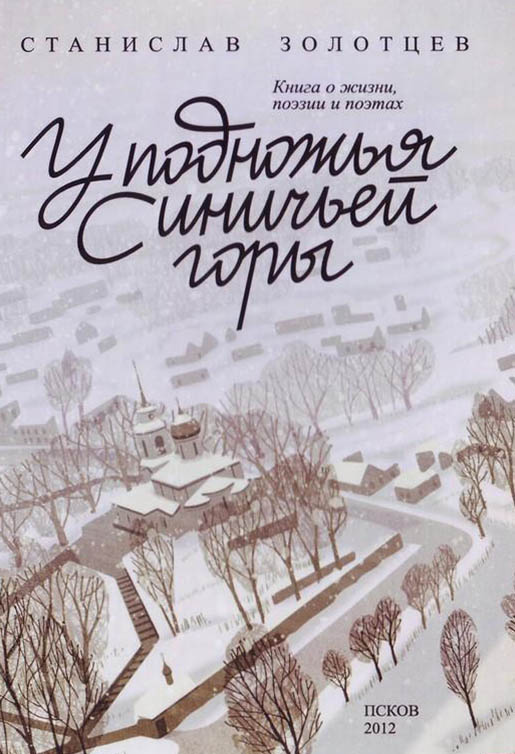
Я уйду навсегда, я скажу напоследок: «Прости».
Я уйду, но покоя тебе никогда не найти…*
(Из песни Евгения Мартынова на стихи Назрула Ислама «Заклятье»)
*Здесь и далее переводы Михаила Курганцева.
1.
В действительности-то звание поэта носил лишь один из трёх героев этого рассказа. Нет, конечно, поэтами были и двое остальных, и не только в душе. Каждый из них писал стихи. Даже самый молодой, прославившийся своей песенной музыкой, и тот иногда сам слагал строки для своих песен…
И, однако же, именно поэтом, или, скажем так, собственно поэтом, то есть — писателем, для которого создание стихов стало главным делом жизни, был только один из них. Самый старший. Я его видел только один раз. И случилось это не в нашей стране, а в Индии.
Да, это был (и остается в мире живых своими стихами) индийский поэт. Точней сказать — бенгальский, хотя, конечно же, он принадлежал всему Индостану, да и всему миру… Уже целое столетие стоят на полках русских читателей многие тома его старшего соотечественника, Тагора, писавшего на том же сладостном бенгали. А вот он, первый герой моего рассказа, вдохновенный бенгальский соловей Назрул Ислам живет в нашей стране всего лишь одной маленькой книжкой стихов, переведенных на язык Пушкина.
А по-настоящему — так всего лишь одной, хотя и прекрасной — песней…
Но, поверьте мне: не только бенгальцы — все жители Индостана до сих пор считают его, Назрула Ислама, по крайней мере, звездой не меньшей яркости, чем величавый Рабиндранат. Его и сегодня не просто почитают, но и читают, и поют, словом — любят. А при жизни соотечественники, можно сказать, боготворили его. Особенно бенгальцы. Просто обожествляли! Да, самой счастливой приметой среди них считалось прикоснуться к следам поэта, увидев его на прогулке…
Однажды, говорю, я сам стал тому свидетелем.
★ ★ ★ ★ ★
2.
Из двух лет, которые в ранней молодости я прожил и проработал в Индии, недели две довелось мне провести в несравненной Калькутте. И в один из тех калькуттских дней мои тамошние новые приятели, молодые инженеры и студенты, пригласили меня на воскресный пикник в пригородном парке. В таком огромном и густом, что его и лесом можно было бы назвать. А лес на всех восточных языках — «джангал», то есть — джунгли. Да, и с настоящими джунглями тот парк мог бы посоперничать своими густыми зарослями, если б не удивительная чистота, если б не поразительная обихоженность его тропинок, дорожек, аллей и полян… А вот те увеселительные посиделки посреди буйной зелени парка — они на титул пикника, ну, никак «не тянули», в моём понимании. Не только единственным европейцем я оказался в обществе молодых индийцев, но и единственным, кто не чурался спиртного. Все остальные были непьющими. И никаких там шашлыков! Мы просто сидели или возлежали в античных позах на невероятно мягком и упругом травяном ковре лужайки, щелкали орехи, уплетали всяческие местные сладости, взятые с собой, а запивали их кокосовым или манговым соками…
Но — уверяю вас! — скучно в той компании не было. Мы и без горячительных напитков хмелели от красоты, окружавшей нас. Только что закончился сезон муссонных ливней, и всё в природе Индостана, тем более в природе; приморской, под жгучим солнцем, вспыхнуло таким тысячецветьем, какое трудно вообразить даже обитателям наших кавказских берегов. Все просто обжигало и ослепляло своей свежайшей яркостью. А уж ароматы, нежные запахи и прочие благоухания, которыми исходили и заросли, и цветы, и сама ожившая земля, сливались в такую одуряюще-головокружительную смесь, что ты пьянел от одного глотка этого воздуха… Но, что и говорить, все мы тогда были пьяны самым крепким и самым драгоценным в мире вином — нашей молодостью!
Моё новое общество давало мне урок искусства беседы. Восточной беседы. Такой беседы, когда одновременно, но, не перебивая друг друга, в ней участвуют и говорят несколько человек. Причём разговор и учтив, и по-индийски солнечно весел, а ещё он по-бенгальски обдаёт вас искромётной и обжигающей пряной остротой — словно тамошние яства, насыщенные множеством разных специй и приправ, когда эти яства ещё только обжариваются в глинобитных маленьких печах. Вот такая шла беседа… Конечно, расспрашивали меня мои калькуттские новые; приятели и о жизни в нашей стране — в той, какою она была тогда, в конце шестидесятых лет — о, Боже, уже минувшего века. В той державе, которая и впрямь — что изнутри, что снаружи — казалась всем нерушимой…
Впрочем, роскошество зелени, цветов и ароматов, царившее вокруг нас, к чересчур серьёзным темам разговоров не располагало. Даже наоборот… И мы оживлённо беседовали о том, о чем во все времена говорят молодые мужчины любых стран и народов, что называется, в приятной обстановке. Да, говорили мы о женщинах и о любви! А индийцы об этом предпочитают говорить не прозой, а стихами, а то и в песнях. Впрочем, когда они читают стихи вслух — получается пение. И вскоре зазвучали они, сладкогласные строки звёзд восточной поэзии: на древнем санскрите, на бенгали, на хинди, на фарси-персидском — классическом языке словесной гармонии (он зовётся у нас таджикским), на урду и на других наречиях многославного Индостана! И на английском, и на французском: западные люди колонизаторством своим здесь и добрые следы оставили. И незримо витали над нашими головами великие тени Хайяма, Саади, Хафиза, Авиценны и, конечно же, Тагора. И грандиозного Шекспира… И я входил в тот многоязыкий хор любовных рифмованных откровений с твореньями Пушкина и Лермонтова… И это стоцветное стиховое полыхание было донельзя созвучно пиршеству красок, запахов и звуков, творившемуся вокруг нас. И розы, и пьянящее благоуханье земли и плодов, и соловьиные трели — все это жило одновременно и в стихах, написанных за сотни лет до нас, и — рядом с нами, в буйных зарослях пригородного калькуттского парка…
А потом один из молодых аборигенов положил себе на колени ситар — многострунное чудо (по преданию, тоже созданное руками поэта, персо-индийского страстотерпца Амира Хосрова), и, бряцая по золотистым рукотворным лучам длинными смуглыми пальцами, завел песню. Ее тут же вместе и порознь стали подхватывать все мои черноволосые и черноглазые товарищи. Даже не зная слов, можно было понять: напев говорит о любви. О любви страстной, сладчайшей, и — самые горькие страдания приносящей… Именно такою и должна быть песнь любви: одновременно и полной плотски-чувственного огня — и возвышенно-смиренной, блуждающей между медовым вкусом счастья и лютой тоской!..
Вот частица того, что дошло до моего понимания, когда я впервые слушал эту песню:
Я уйду, ибо выпито сердце до самого дна.
Я уйду, но останешься ты со слезами одна.
Обо мне ты ревниво вечернюю спросишь звезду,
но она промолчит, не откроет, куда я уйду.
Ты заплачешь, забьёшься в рыданиях, еле дыша,
и расплавится сердце твоё, и оттает душа,
и, не видя дороги, ты кинешься в горестный путь
вслед за мной, без надежды меня отыскать и вернуть…
В этой песне юноша и проклинал свою неверную возлюбленную, и в сладких муках вспоминал её прелести, и умолял её вернуться, и…
Но — тут произошёл случай, редчайший для любого индийца, исполняющего песню: мой смуглолицый новый приятель выронил ситар из рук и закрыл свои глаза ладонями. Напев оборвался… Тут и без объяснений было ясно: в песне звучала и судьба того, кто её пел. Исполнитель бережно отложил ситар, извинился и отошёл в сторону… А сидевший рядом со мною парень вздохнул и сказал мне:
«Да, так только Назрул может в душу проникать! Только Назрул способен вот так сердце обжечь…»:
«Кто? — не понял я. — о ком вы говорите? Какой Назрул?.»:
«Наш Назрул! — с гордостью почти фанатической ответил бенгалец. — Наш великий, наш благословенный Назрул Ислам, наш самый любимый поэт! Неужели вы, брат, при вашей любви к поэзии, не знаете; это имя, не знаете стихов Назрула Ислама? Да быть такого не может!»
Но это было именно так, в чем я с немалым смущением признался своим калькуттским друзьям. Не знал я такого поэта и его творений. Многое тогда ещё было неведомо мне из мировой сокровищницы духа, мне, молодому советскому гуманитарию шестидесятых лет, впервые оказавшемуся в долгой командировке за рубежом… И тут же мои индийские приятели стали обрушивать и выплёскивать на меня громаду своих сведений и познаний об их любимейшем поэте. Но — их жаркие словоизлияния были прерваны, едва зазвучав. Произошло событие, ставшее для меня первым (но далеко не единственным) подтверждением присловья, точней — поверья, которое долгое время было в ходу у бенгальцев: «Где Назрул — там чудо и удача!»
…Как только имя поэта прозвучало в устах его почитателей, окружавших меня — как тут же, словно какое-то магическое эхо, это имя донеслось до нас со стороны большой аллеи, рассекавшей парк надвое. Оно повторялось во множестве восторженных восклицаний и приветственно-радостных возгласов: «Назрул! Наш Назрул! Идите все сюда! Наш Назрул здесь! Назрула везут!»»
Всех моих калькуттских приятелей, сидевших и лежавших на траве, как ветром сдуло. Они мгновенно повскакивали и помчались туда, откуда неслись эти восклицания и возгласы. Похоже, никто из них в этом порыве даже и не вспомнил обо мне. Но я, естественно, рванулся вслед за ними…»
Аллея, на которую мы выбежали, уже была полна народу — в белых и разноцветных одеяниях. Надо сказать, что и сама эта аллея просто полыхала радужностью. С обеих сторон её окаймляли ряды буганвиллии, — а когда высокие стебли этого южного кустарника после муссонов покрываются цветами, то кажется, что они не цветут, а въявь охвачены языками пламени, причём какого-то киноварно-раскалённого оттенка. Долго смотреть на цветущую буганвиллию просто невозможно: начинают слезиться глаза… Но её полыхающие заросли не сплошной стеной шли, их прореживали острова и островки других цветов и цветущих растений, прежде всего среди них царствовала генда — это что-то вроде гигантских ноготков (или маргариток), горящих червонным золотом. И, конечно же, розы, розы! розы… всех возможных цветов и оттенков!
И вот посреди всего этого великолепия по широкой аллее, а, верней сказать, по просеке тропического лесопарка двигалась процессия. Да, иначе нельзя было назвать то людское множество в его почти торжественном шествии. Не знай я уже, ради кого, ради какого человека столько людей собралось, подумал бы: они сопровождают на прогулке какого-либо раджу или махараджу, давно уже лишенного власти, но все равно почитаемого местным населением. К тому времени мне уже довелось повидать и таких, «отставных» владык Индостана…!
Но в коляске, которую несколько человек катили по крупному золотистому песку, смешанному с разноцветным гравием, сидел вовсе не махараджа, не набоб, не кто-либо из бывших местных князей. Человека, сидевшего в коляске, когда-то, в дни его молодости как раз именно раджи и прочие вассалы британских колониальных властей ненавидели ещё сильнее, чем сами колонизаторы. Старик, которого в коляске под балдахином, словно на каком-то походном троне, катили смотревшие на него с почтением и восхищением люди — этот старик, если и мог зваться владыкой, так только лишь владыкой сердец и умов.
Он был поэтом.
Именно — был. Давным-давно… В дни своей молодости он был способен писать стихи. Причём нередко — гениальные. Но это было давно…
…В коляске под балдахином сидел глубоко больной человек семидесяти с лишним лет. Однако зрелище он представлял собой вовсе не жалкое, а, пожалуй, даже; в чем-то и величественное. Его смуглое лицо обрамляла грива серебряных волос, аккуратно подстриженная; обихожена была и его седая борода. Гриву его покрывала ярко-жёлтая шапочка, по виду схожая с пилоткой: такие шапочки и поныне носят многие индийские мусульмане. С плеч ниспадала свободная длинная рубаха цвета охры, она зовётся «курта»; завершали же наряд старца просторные и совершенно белоснежные брюки и лёгкие серебристые туфли с загнутыми вверх носками (какие: мог носить, к примеру, старик Хоттабыч и персонажи разных восточных сказок…)
И, даже изборождённое многими морщинами, лицо его оставалось ещё красивым — той мужской, мужественной и светлой красотой, что вошла в изустные легенды бенгальцев. Красой вдохновенного воина, бойца, борца и — поэта.
…Однако, приблизившись; к этому величественному старцу, движимому в коляске множеством верных рук, можно было с первого же взгляда увидеть на его лице печать самого тяжкого — психического — недуга. Тут и врачебных познаний не требовалось, чтобы понять: улыбка, не сходившая с чела и с уст народного любимца, — улыбка не только добра, но и — безумия. Рассудок поэта, скажу, забегая несколько вперед в своём рассказе, давно уже; был разрушен, сознание, память — покрыты тьмой…
С тою же; блаженной улыбкой Назрул сделал жест рукой — и окружавшие его люди тут же все поняли и помогли ему встать с коляски. И, бережно поддерживаемый под руки, он стал поначалу не очень уверенно ступать по золотисто-пёстрому горячему песку аллеи. Шёл — словно по вешнему непрочному льду.
Тут-то и началось! Тут-то и увидал я наяву, что такое поклонение, доходящее до обожествления!
Десятки мужчин и женщин, парней и девушек, мальчиков и девочек, окруживших коляску поэта, но державшихся от неё на почтительном расстоянии, пока он в ней сидел, бросились к следам, оставляемым неровной поступью их кумира. Они, можно сказать, падали на его следы, прикасаясь к ним — кто руками, а кто и лицом, и всем телом!
Не исключением тут стали и мои просвещённые новые приятели. Один из них, ещё молодой, но уже весьма высоко взошедший по служебной лестнице инженер-энергетик на моих глазах заворачивал в чистый носовой платок горсть песка, взятую им из следа Назрула. Увидев моё изумлённое лицо, он чуть смутился, но тут же, да еще и с немалым апломбом в голосе пояснил мне, как будто юному несмышлёнышу:
«Это у нас, у бенгальцев, особенно здесь, в Калькутте — самая надёжная и верная примета. Если прикоснуться к следу Назрула и загадать желание, оно обязательно сбудется! А уж если твоим талисманом станет почва, взятая там, где ступала его нога — удача тебе не изменит… Понимаю, для вас, для европейцев, это представляется, может быть, чем-то диким, идолопоклонством. Но здесь у нас — это самое искреннее проявление любви к самому своему, к самому народному поэту».
«Да, это так, — поддержал его другой бенгалец, — хотя, наверное, сам Назрул Ислам, если б он смог осознать такие знаки поклонения себе, их не: одобрил бы. Он отрицал всяческое раболепие, он порицал обожествление живых людей».
Однако ему тут же возразил ещё один мой новый знакомец из нашей воскресной компании, только что со счастливым лицом упаковавший горсточку песчинок в салфетку: «Но ведь для Назрула высшее; божество на свете — человек. Любой, даже самый последний нищий — бог для него, высшая ценность на свете!»
И в подтверждение своих горячих слов он не менее горячо продекламировал нараспев:
Но даже нищий и немой
во мраке горестей своих,
я выше — храмов, и церквей,
и пагод, и священных книг.
«Как?» — не смог я удержаться от закономерного вопроса. «А разве ваш поэт — не мусульманин? Ведь даже его фамилия об этом говорит — Ислам, не так ли? Но ведь строки, которые вы прочитали, противоречат исламскому вероисповеданию, они с учением Мохаммеда никак не согласуются!»:
«Ну, не будем сейчас говорить о сущности мусульманства, — ответил мне старший из нашей компании. — Тут не всё так просто, как вам, европейцам, кажется. Вы, вероятно, увидев тут, в наших провинциях мусульманок в бурках*, решили, что таковы обычаи и взгляды у всех, кто исповедует ислам. Нет, друг, мы — прежде всего индийцы, более того, мы — прежде; всего люди; так нас учит и наш Назрул своими стихами. Да, он — потомок старинного бенгальского рода, он почитал веру своих, предков…»:
(Здесь я вновь должен заметить: мне даже в тот знойный час как-то зябко становилось, когда я слышал, что мои новые калькуттские приятели говорят о человеке, находящемся рядом с нами, в прошедшем времени — словно о мёртвом. Этим они каждый раз словно бы подчёркивали, подразумевали, что реальная, осмысленная человеческая жизнь для старика с блаженной улыбкой на лице давно уже к тому времени завершилась…)
Индиец продолжал: «Наш Назрул был полон любви и уважения к людям любых религий и наций. Когда вы узнаете его стихи по-настоящему, то поймёте: он был фанатиком лишь в одном — в любви к человеку. И, прежде всего — к женщине. Да, во многих его стихах главный мотив — духовное превосходство женщины над мужчиной. И в какие годы он это говорил! Тогда еще все женщины в Индии, не только мусульманки, были почти что рабынями, а он писал так:
Освободите жён от мук!
Не дайте, вянуть им во тьме.
Для них создали вы тюрьму —
вы сами сгинете в тюрьме!
*Одеяние мусульманки, целиком закрывающее её лицо и тело, остаётся лишь прорезь для глаз..
И тут же, не отрывая глаз от многолюдного ритуального действа поклонения поэту, о нём вновь поведал мне самый юный из нашей компании: он был ещё моложе меня, вчерашнего студента. «Ну, о женщинах-то у Назрула есть и более знатные стихи. Вот, например, это:
Горят гранаты щёк, горят глаза.
В твоей крови как будто рой пчелиный.
С какой-то силой непреодолимой
в тебе поют хмельные голоса…
Так женщина рождается несмело —
душа взрослеет, прозревает тело.
Так созревает лучшая из женщин —
так прорастает в раковине жемчуг.
«А что до этого фетишизма, до всего этого неумеренного поклонения, образец которого вы сейчас наблюдаете, — продолжал свои пояснения старший инженер, говоря и с некоторым смущением, и с грустной лёгкой иронией, — то… что ж, вы сами должны уже знать, наш молодой русский брат, что судьба поэта в жизни, в действительности, очень часто не совпадает с той судьбой, какую он сам себе рисует и желает в стихах. Вот и у Назрула…»
«Смотрите, смотрите! — вдруг вскричал он, прервав свои объяснения. — Что они творят! Ведь они же могут его погубить!»‘
И он кинулся к центру аллеи, увлекая за собой приятелей, чтобы предотвратить назревавшую беду. А беда могла случиться — с Поэтом.
К нему, по-прежнему блаженно улыбавшемуся и медленно ступавшему в окружении нескольких молодых и не очень молодых, но крепких мужчин, стало прорываться людское множество, скопившееся по обочинам аллеи. Многолюдье превращалось в столпотворением десятки и сотни людей, находившихся в парке и узнавших о том, что их кумир совершает прогулку, стали сбегаться к нему. Многие желали прикоснуться к своему любимцу, потрогать хотя бы край его одежды. А кое-кто жаждал, что называется, припасть к его стопам, поцеловать его туфли… Эти неистовые фанатики — нет, не поэзии, а просто фанатики — начали расталкивать людей, окружавших и оберегавших Назрула Ислама; ещё немного — и больной старик оказался бы смят имя, стремившимися заполучить «примету счастья» в своё пользование!.
Видно, и до помрачённого рассудка Поэта дошло, что рядом с ним творится нечто неладное и угрожающее ему. Блаженная улыбка на его лице сменилась безумной гримасой страха, даже ужаса. Старик заслонил лицо руками, съёжился, скорчился, задрожал и сел наземь, спрятав голову в колени…
Но тут подоспевшие добровольные помощники, среди которых были и мои приятели, быстро навели порядок. Они растолкали по сторонам не в меру ретивых поклонников Назрула и скорёхонько усадили старика в коляску, опустив с её верха многоцветный тент-чехол, который закрыл сидевшего от людских взоров…
И того, кто был когда-то вдохновенным певцом раскрепощённых человеческих сил, быстро повезли в этой закрытой коляске подальше от людских толп, — к его дому с зарешечёнными окнами…
★ ★ ★ ★ ★
3.
«Да, конечно, Назрул ужаснулся бы в своей здравой молодости, если б смог тогда предвидеть такие столпотворения в свою честь!»
«Да он заклеймил бы своими стихами это идолопоклонство — он его и клеймил, когда был светел рассудком, он вот что нам всем сказал:
«Никому не кланяйтесь, люди,
будьте правдой своей горды.
Выше вас только свод небесный,
только свет Полярной звезды…»
… Примерно так сокрушались мои калькуттские приятели, собравшись вечером того же воскресного дня в доме одного из них. Сокрушались и возмущались так, словно бы сами они не принимали участия в том столпотворении, пусть и без фанатического неистовства.
Но к тому вечернему часу я уже не мог сильно осуждать своих новых индийских товарищей. Ибо — сам начал проникаться их преклонением перед «Бюльбюль Бангли», перед их «бенгальским соловьём». Они обрушили на меня столько строк Назрула Ислама, и сладкозвучных, и гневных, и пронзительно-грустных, и солнечно-жарких, они столько мне поведали о своём поэтическом кумире, что он час от часу становился и моим.
Невозможно было не влюбиться во вселенную красоты, созданную им в слове, нельзя было (по крайней мере, мне тогдашнему, двадцатитрехлетнему) не покориться огненно-вольному полёту чувств и мыслей его бунтующих и гордых героев. Меня ошеломили и опьянили звездопады и водопады чувственно-страстных и чеканно-мудрых образов его поэзии…
Меня поэтом сделала любовь.
Как зеркало, моя любая песня
тебя лишь повторяет вновь и вновь.
И небо ночи, и светило дня,
и луч рассвета, и звезда заката,
влюблённого, приветствуют меня.
Восходит солнце — огненный тюльпан,
и ветер мне протягивает руку,
и бьёт прибоем пенный океан.
Всё это — ты. Горит моя душа.
Рождаются молитвы и поэмы.
Живу, твоим дыханием дыша.
Ты вся — от красной капельки на лбу
и до ножных браслетов — совершенство.
Приди ко мне — откликнись на мольбу!
Меня поэтом сделала любовь…
… Конечно, потому содержание стихов и поэм Назрула Ислама столь быстро «вошло» в меня, предстало явственно, в красочности и в полноте ощущений, что, прожив к тому времени в Индии уже более года, я немало повидал таких луноликих и чернооких красавиц — с этими рубиновыми и киноварно-алыми каплями «синдура» над их бровями, с нежнейшими перезвонами их браслетов — да, и на запястьях, и на смуглых щиколотках, и даже соединяющих собою серьгу в ушке с серёжкой в носу! Уже немало навидался я и наслышался и надышался терпко-пряной и горьковато-дымчатой действительности Индостана. И не только его огромных городов с их невиданной роскошью и толпами скелетообразных нищих, нет, по преимуществу жить мне пришлось в небольших селениях, посёлках и крохотных городках, что затеряны в долинах плоскогорий и в южных лесах-джунглях — там жизнь совсем иная, хотя и по-своему сказочная… Мне уже легко было представить себе многосложный и подчас малопонятный для европейцев азиатский мир, воссозданный строками вдохновенного бенгальца. Индия, настоящая, а не книжная, уже во мне поселилась — с её красками, с её запахами, с её прошлым и настоящим.
Но — я увидел её заново. Глазами Назрула.
Его влюблённым, счастливым, страдающим и ненавидящим взором увидел я её высоты духа и мрачные пропасти распрей и усобиц. И те совершенно волшебные грани и приметы её жизни, благодаря которым она и зовётся страной чудес… А ведь бенгальский гений слагал свои стихи в двадцатые-тридцатые годы — за множество лет до моей встречи с его землёй. Но именно та земля, страна тех лет, когда я застал её, стала мне намного ближе, яснее и понятней, открывшись мне сквозь призму его поэзии. И её действительно магическая сущность, не делимая на прошлое и настоящее. Её гордая, горькая, кровавая и восхитительно-завораживающая история, словно бы опрокинутая в грядущее. Вечность, состоящая из мгновений любви…
И пусть любовь — напиток вечный, древний,
а наша жизнь — лишь временный сосуд,
из зёрен страсти вырастут деревья
и над землёю кроны вознесут,
и пусть шумит зелёная, живая
ветвей и листьев юная краса,
и птицы наших яростных желаний
пусть крыльями закроют небеса…
О самом же Назруле, о человеке, которого звали Назрул Ислам, рассказывать можно столько, что хватит не на один роман. (И несколько таких романов я повестей уже есть в Индии.) А можно — коротко, что я и попытаюсь сделать.
… Семнадцатилетний юноша из некогда знатного, но уже вконец обедневшего бенгальского рода, пройдя все «батрацкие университеты», становится солдатом Первой мировой войны, воином армии Её Величества. Да так воюет, так бьёт по кайзеровским каскам, что дослуживается до младшего офицерского чина, а такое в те поры для простого индийца было почти неосуществимым. Перед молодым бенгальцем открывается дорога если не в высшее, то уж точно в среднее чиновно-бюрократическое общество британской колонии. Но — он уже вовсю пишет и стихи, и прозу, его начинают печатать самые популярные журналы и газеты Калькутты, а затем и Дели, и других больших городов. И если б он стал всего лишь автором жарких гимнов любви (которые, кстати, тут же становились песнями и распевались тогдашней молодёжью по всей стране), нет — он пишет гимны грядущему освобождению страны от колонизаторов. И самая первая, прославившая его поэма так и звалась — «Бунтарь».
Да, Назрул Ислам был поэтом-бунтарём. Не «политическим» и не «революционным» в европейском смысле, а именно бунтующим, восстающим против любого — да, любого! — гнёта, против любого закрепощения человека… Истовый правоверный, он, подобно Хайяму и Саади, говорил в стихах с Аллахом на равных. Он бичевал ханжеское лицемерие и бесчеловечность фанатиков ислама. Его сатиры, звучавшие на устах у всех, били не только по колонизаторам. Ещё сильней они жалили «своих» господ — раджей, набобов, заминдаров (крупных землевладельцев) и собственно индийских чиновников — словом, тех, кто старался быть более верными слугами британской короны, чем даже многие англичане. Естественно, что эти его «антигерои» поэту тоже немало принесли неприятностей и даже страданий…
Бенгальский соловей, как положено истинному художнику слова, явил себя людям настоящим пророком. Задолго до освобождения Индии он предсказал, что колонизаторы, уходя, расколют страну по религиозному принципу. Так оно я произошло: после Второй мировой войны британцы разделили колонию, добившуюся освобождения, на собственно Индию и на Пакистан — со всеми горестно-кровавыми, поныне длящимися последствиями сего раскола.
Но этого бунтарь Назрул уже не увидел. Несчастье произошло с ним, когда он только начал подходить к зениту своей славы. Уже одна за другой выходили его книги, уже стал он любимейшим поэтом бенгальцев, уже величавый Тагор нарёк его братом, да не младшим, а равным себе… Но, видимо, полосы невзгод и преследований, многочисленные тюремные «отсидки» и голодовки, которых в те поры (впрочем, как и во все времена) не удавалось избежать ни одному бунтарю, надломили его психику. Рассудок его начал помрачаться, а вскоре и разрушился. Тьма заволокла сознание Назрула, он полностью утратил память. И никакие врачи не смогли исцелить его… И примерно с середины тридцатых до самой своей смерти — сорок с лишним лет — этот великий бенгалец прожил во мгле своего разрушенного разума. Он ничего не узнал о том, что произошло в мире за эти десятилетия. Вторая мировая война, освобождение отечества и последовавшие затем братоубийственные кровавые катаклизмы, медленное и трудное возрождение Индии — всё это прошло мимо него…
Правда, новая власть независимой страны позаботилась о народном кумире: ему назначили приличную пенсию, поселили вместе с его младшими родственниками в хорошем доме. И поклонение бенгальцев своему поэту с годами лишь возрастало, усиливалось до непомерного восторга, — его-то, это поклонение мне и довелось повидать воскресным днём на окраине Калькутты.
Но сам Назрул Ислам уже не мог ничего воспринимать и понимать в окружавшем его мире.
Потрясённый этим рассказом моих калькуттских приятелей об их любимом поэте, я тут же им в ответ поведал о сходной трагедии нашего, русского гения, о тяжком недуге, который погрузил поэта Константина Батюшкова во мрак сознания тоже на несколько десятилетий. И я попытался как можно точнее и проникновеннее передать для них смысл и звучание самого поразительного образа, созданного этим несчастным другом Пушкина:
О, память сердца! Ты сильней
Рассудка памяти печальной…
«Да, — вздохнул старший из моих товарищей-бенгальцев, — когда разум и сердце сшибаются меж собою, часто бывает так, что одно из них двоих не выдерживает. Либо сердце разрывается, либо — рассудок рушится… С нашим Назрулом произошло второе. Но всё равно — он для нас и жив, и светел, и прекрасен!».
И в подтверждение сказанного калькуттские друзья вновь запели песню Назрула, в которой влюблённый юноша и проклинает свою возлюбленную, и заклинает её вернуться к нему:.
Я уйду, ибо выпито сердце до самого дна.
Я уйду, но останешься ты со слезами одна…
Будет горькая память, как сторож, стоять
у дверей, и раскаянье камнем повиснет на шее твоей…
И воздух бенгальского дома сильней, чем терпкими дымками сандаловых свечей и ароматами роз, был пронизан в тот вечер сладчайшей и горькой музыкой любви Счастливой и печальной музыкой, имя которой — Поэзия.
★ ★ ★ ★ ★
4.
… Но, разумеется, все эти строки стихов, только что вами прочитанные по-русски, были тогда услышаны мной на бенгальском. Калькуттские мои друзья, певшие и читавшие их вслух, поначалу старались тут же делать для меня их буквальный, дословный устный перевод, перелагая их на английский или на французский. Но вскоре и это стало ненужным. Ведь мелодия, особенно в стихе восточном, сама несёт в себе главный смысл. И суть строк Назрула Ислама стала доходить без перевода — скорее до сердца моего, чем до сознания. И вскоре я уже лишь изредка просил моих новых товарищей подсказать мне точное значение того или иного образа…
Подумайте сами: ведь когда человеку двадцать лет с небольшим, разве трудно ему ощутить, о чём идёт речь поэта, к примеру, вот в таких трепетно-переливчатых откровениях, даже если они сложены на почти неведомом ему, молодому, бенгали? -..
… У неё глаза хмельные,
смотрят мягко и лукаво —
безучастие и нежность,
наслажденье и отрава.
Вскинет брови, улыбнётся —
и рассеялись печали;
оживаю, словно поле
под весенними лучами…
Но всё же, говорю, на моём родном языке творения великого бенгальца мне довелось услышать и прочитать гораздо позже. Да не просто на русском — а на языке настоящей русской поэзии
Стихи Назрула Ислама, переложенные на нашу речь пером подлинного мастера, пришли ко мне лет через шесть после той воскресной калькуттской встречи. Это произошло уже в ту пору, когда началась моя литературная судьба. И этим мастером оказался человек, который стал одним из моих самых надёжных товарищей по перу. Более того, он принадлежал к числу очень немногих людей из мира литературы, вспоминая которых сегодня, я говорю без тени сомнения: они были моими настоящими друзьями.
… Я звал его Мишей, и мы были на «ты», хотя он родился лет на пятнадцать раньше меня. Детство его совпало с войной, что и оставило роковые следы в его здоровье, казавшемся богатырским. И заниматься «безнадёжным делом» (как некогда нарёк творчество острослов Расул Гамзатов) он начал раньше меня тоже лет на пятнадцать. И ко времени нашего знакомства Михаил Абрамович уже достиг, что называется, степеней известных на этом тернистом поприще. Добился и признания, и некоторой независимости.
… Да, Михаил Абрамович, так его звали, — а потому не уйти мне в этом повествовании от предмета, который и всегда-то считался почти самой щекотливой темой в обществе российском, а уж нынче и вовсе зачислен в темы взрывоопасные. Но — правда только тогда является истиной, когда она — полная правда. А с моим другом, ученным-востоковедом и переводчиком поэзии Востока, истина в том состояла, что он был р у с с к и м п о э т о м. Художником русского стихового слова, скажем так. И во всём он, сын древнейшего «библейского» этноса, внук и правнук местечковых извозчиков-«балагул» и синагогальных канторов, был им — русским художником слова.
Всей сутью своей жизни — человеческой, литературной, мужской — Михаил Абрамович являл самое красноречивое подтверждение той истине, что понятие «русский» — не в происхождении, а в чувстве сыновней принадлежности стране и народу. В кровной причастности к космосу по имени Россия. Что быть русским, особенно художником русского слова — это судьба. Некоторые язвительно шутят: «это — диагноз», что ж, и тут есть доля правды… Как бы там ни было, мой старший друг по литературному цеху поэтического перевода был настоящим русским поэтом…
Внешне — статный, вальяжный, улыбчивый, с ухоженной чёрной бородой (о нем приятели в шутку говорили так: внешность Карла Маркса, ещё не написавшего «Капитала»). Раблезиански-щедрый жизнелюб, всегда окружённый друзьями и поклонницами в нашем, тогда на всю страну славном Центральном Доме литераторов, на вечерах и поэтических встречах. Да, то был, пожалуй, классический образец «любимца дам». Успех Миши среди прекрасного пола затмевал, помнится, успехи всех записных литературных донжуанов и ловеласов той поры. Женщины млели и таяли в море его чернобородого — с лёгкой красивой проседью — обаяния. Причём — и юные, и зрелые, и перезрелые, и начинающие поэтессы, и давние любительницы поэзии… Конечно, дело тут было не только во внешних данных моего друга и в его солнечно-мужской натуре. Они — натура, обаяние, притягательность — жили и в строках его стихотворных переложений. Многие тогда диву давались: идёт вечер поэзии, участники его — «хорошие и разные», скандальные и серьёзные… а самые громовые аплодисменты достаются не им, а тому, кто даже и не свои стихи со сцены читал, а переводы, да еще и каких-то неведомых восточных авторов! Но — как было не возгораться сердцам слушателей, а особенно слушательниц, когда (вспомним еще раз — в СССР «секса не было», времена в этом плане и впрямь были весьма «вегетарианские») они слышали, к примеру, вот такое звуковое полыхание, пропитанное любовно-эротическими биотоками:
Мы — сыны любовных объятий,
мы началом нашим горды.
Мы зачаты в траве высокой
под неверным огнём звезды.
Что скрывать, ревнители веры:
так повсюду, в любом краю
миллионы мужчин и женщин
утоляют жажду свою,
жажду радостного слиянья,
жажду вечности и весны…
Или — вот этот шквал мужских признаний:
Во мне живут торжественные звуки,
меня пронзает радостная дрожь.
И вот соприкоснулись наши руки.
И ты своё мне тело отдаёшь.
В бесчисленные чаши лью тебя,
губам прильнувшим отдаю тебя.
И нахожу тебя в любом сосуде
и сотнями желаний пью тебя!
Думаю, кое-что я вам объяснил… .
… Вспоминается, как в одном застольном разговоре Миша отбивался от некоего назойливого и «озабоченного» коллеги, жаждавшего выяснить причину стольких побед моего друга над женскими сердцами. «Читай, — сказал ему Михаил, потрясая перед ним, кажется, «Литгазетой», где была только что напечатана рецензия на новый сборник его переводов, — читай, тут слово «темперамент» в каждом абзаце повторяется!» Но захмелевший собеседник не унимался:
«Нет, Миш, ты мне окажи, как это у тебя получается: на какую взглянешь — та и пойдёт с тобой, а?!»
Очень примечателен был ответ моего друга:
«А я вовсе не на каждую смотрю!»
Да, он был жизнелюбом, но волокитством и «кобеляжем» не занимался, хотя поклонниц своим вниманием отнюдь не обделял и поклонения их не отвергал. Но и в этой сладостной области бытия вёл себя с достоинством. Знал меру, и спокойствие своей семьи старался беречь, хотя и не всегда это ему удавалось. (Правда, то была его то ли вторая, то ли третья семья…) Равно как знал он меру и в выпивке, хотя редкий вечер обходился у него без застольных дружеских посиделок в писательском клубе. Да любил-то он больше не выпивку, а именно добрый разговор, подчас и просто весёлый трёп. Однако, если уж быть до конца откровенным, то, вспоминая первые годы нашего дружества, когда автор этого рассказа был связан с Бахусом самыми тесными узами, могу сказать с грустной улыбкой: выпили мы с Михаилом столько, что сегодня вряд ли бы переплыли нами выпитое…
А в тех дружеских беседах, как, впрочем, и в иных, даже в академических обсуждениях текстов и в научно-филологических дискуссиях Михаил Абрамович тоже покорял аудиторию, блистая и знаниями, и юмором. Вообще был очень дружелюбен, и мало кому удавалось с ним поссориться. Хотя… если то крайне требовалось, становился и жёстким, и резким. Редко, но такое случалось. Причём, опять-таки если требовалось, не жалел ни «ваших», ни «наших». Даже когда разговор заходил на ту же «проклятую» тему. Помнится такое его признание:
«Знаешь, ни от одного русского я никаких обид никогда не знал, и даже мелких подножек. Так что насчёт русского юдофобства пусть мне мозги не пудрят… А вот свои, вот наш «кагал»! вот от них-то пакостей натерпелся по самое некуда!»
Что тут комментировать… Добавлю, что вовсе не ради «подыгрывания» старшему товарищу, не в качестве «алаверды» к нему у меня со вздохом вырвалось искреннее откровение: а мне вот свои, русаки коренные, то пенделей горячих навешивают, то исподтишка гадят совершенно по-местечковому; ваши же, которые «Христа распяли», ничего мне пока не сотворили, кроме хорошего…
Впрочем, вспоминается и другое. Однажды в шумной компании кто-то подвыпивший ляпнул нечто об «Абрамах, которые во время войны в тылу отсиживались». Миша тихо, но твердо осадил его:
«Моего отца как раз Абрамом звали. Отсиживался — о первого до последнего дня войны… на передовой. И вообще, двести девять Героев Советского Союза из «Абрамов» получилось — это не хрен изюму! Ну, ладно. Звезду можно я в штабе выслужить, а вот «За отвагу» или орден Славы — только в окопе! А у моего отца, у Абрама — и то, и другое… Так что не прав ты, Вася!»
Но Миша не был бы собой, если б не завершил ту свою отповедь солоновато-дружелюбной тирадой:
«Как известно, на войне и необрезанных обрезают: кого осколком, кого скальпелем. Так что нечего нам делиться. Лучше выпьем за всех фронтовиков, за отцов наших!..»
Вот таким он бывал, мой старший друг, поэт-переводчик Миша Курганцев. Но это так, к слову. Так сказать, штрихи к портрету… Однако же и другое к слову: и палестинские поэты, причём активные участники их Сопротивления, и другие «соловьи» современного арабского мира словесности, которых Михаил Абрамович переводил, считали его (сам тому бывал свидетелем) совершенно «своим». Не просто «советским товарищем», но именно — товарищем, человеком, разделяющим их убеждения и устремления. А такое отношение со стороны арабов к человеку «библейской» национальности, сами понимаете, многое о нем говорит…
Поэтом, повторяю, он был настоящим. Но — именно поэтом-переводчиком. Не раз я допытывался у него, почему он не печатает собственные стихи: по моему убеждению, он не мог их не писать. И каждый раз он искренне отвечал примерно так:
«Вот те крест и честное партийное слово — ну не пишу я стихи, только перевожу! В юности — было, грешил и своими стишками. А потом — потом понял, что во мне самом поэзии слишком мало…»
Отвечая так, Миша, в общем-то, не лукавил и не скромничал. Просто так уж по-особенному жила его душа. Она была наделена редкостным даром Божьим — возгораться от прекрасной поэзии, рождённой в другом народе, под пером поэтов другого языка, принимать в себя это иноязычное сокровище — и обращать его в сокровище родного русского языка. В жемчужины нашего отечественного стиха — однако, сохраняющие и суть, и музыку, и аромат, и цвет той земли, той страны, той речи, в которых они родились.
Не хочу вдаваться в теоретизирование, но ведь это и в самом деле чудо: когда чужеземное, иноязычное творение как раз чужеземным-то и перестаёт быть. Становятся чем-то вроде розы или ещё какого-либо цветка или растения, пересаженного, перенесённого на нашу почву и цветущего, и плодоносящего здесь, как дома!
…Когда стихотворение, написанное поэтом иной страны, не в «перевод» превращается, пусть даже и точный, и звучный, но — в поэзию русскую, оставаясь при этом поэзией другого народа. Редкостный, говорю, жребий — быть таким мастером, таким искусником, который способен сотворить подобное чудо… Михаил Абрамович Курганцев был именно таким мастером.
Под его пером «русели» и африканцы, и гении, писавшие на классическом языке восточной поэзии — фарси (он же и персидский, и дари, и таджикский), и старинные поэты Индокитая. Он был ориенталистом широкого профиля, то есть — востоковедом, знавшим культуру и жизнь многих стран Азии и Африки. А потому и предпочитал переводить лишь то, что ему на душу ложилось, от чего «возгорался». Тем и отличался он от большинства собратьев по цеху, которым чаще всего было безразлично, кого и что переводить — лишь бы зарабатывать. Да и работали-то в те годы многие переводчики поэзии по так называемым «подстрочникам», не зная никаких языков. А нередко и не имея никакого представления ни о том, кого перелагали на русский, ни о его стране. Потому-то и получались у них рифмованные «русскоязычные тексты», сырые и серые — и поделом они ныне преданы забвению…
Именно Миша сочинил об этих халтурщиках несколько язвительных эпиграмм, тут же ставших присловьями среди литераторов, например: «Они переводят лёжа, стоя и с колена». Или — «Перевод с малороссийского на ещё менее российский»…
Имелись у моего друга и собутыльника основания для подобного презрения к ремесленникам-«подстрочникистам», имелись. Не могу точно сказать, сколько языков он знал; когда его о том спрашивали, отвечал он в своём привычном ёрнически-ораторском духе: «Русским матерным владею свободно, остальные — со словарём… и с букварём». И уточнял: «Со словарём уголовных терминов»… Но одно знаю и помню точно: кроме английского, французского и немецкого, читал он на арабском и на фарси, при мне свободно разговаривал с бенгальцами и с тамилами из Шри Ланки на их наречиях. Понимал и немецкую речь. Так что достоинство, с которым он вёл себя, было и профессиональным… И кое-кому было за что его не любить. Но, говорю, ссориться с ним в открытую почти никто не решался: столь светлое дружелюбие отличало этого человека.
Правда, Миша тоже иногда переводил с помощью подстрочника. Он делал достоянием русских читателей и стихи поэтов «нашего», тогдашнего Советского Востока. Но — лишь своих друзей. Чаще всего молодых, находившихся в немилости и в опале у тамошних, республиканских властей. Без преувеличения можно сказать: худо бы пришлось нескольким нынешним «живым классикам» Средней Азии и Кавказа, да никогда б они ими и не стали, не возьмись в своё время Курганцев перелагать на русский их творения. Если б не «пробивал» он их в самых престижных и к власти близких органах печати — вплоть до «Правды». А напечататься в ней было в те поры равно получению некой «охранной грамоты», генеральской звезды на незримые литературные погоны! Но и защищал своих приятелей-бунтарей Миша тоже спокойно и с достоинством, без всяческого диссидентско-оппозиционного «надрыва», столь популярного тогда, в «застойные» времена…
… А всё же самой большой любовью Михаила в мире восточного стиха была — Индия. Да, Индостан и его многоязыкая поэзия
В сущности, знакомство наше о самого начала стало и дружеским, и тесным потому, что уже в первой встрече я поведал Михаилу Абрамовичу о своей двухлетней индийской одиссее. Услышав сие известие, он вмиг преобразился, оживился, с него слетела вся вальяжная степенность ответственного секретаря (дело происходило в журнале «Азия сегодня», где он трудился по совместительству). На его заваленном рукописями и книгами «многоуважаемом» столе тут же, словно по велению лампы Алладина, появилась коньячная фляжечка вместе с двумя рюмочками. И — пошёл душевный разговор! (Что и говорить, по-своему простые, живые и нескучные нравы царили тогда, в ту «застольную» эпоху…) Когда дело касалось страны «Рамаяны» я Тадж-Махала, Миша мог и говорить, и слушать без устали, все прочие дела отложив… И во всех последующих наших встречах, происходивших чаще всего опять-таки под гостеприимным кровом писательского клуба, мой новый старший приятель непременно и настойчиво «заводил» меня на устные мемуары об Индии. (Самому ему довелось там побывать лишь единожды, да я то всего лишь в краткой поездке. За рубеж его тогда выпускали нечасто…)
Я же «заводился» без всяких уговоров. Ибо Миша с первой же встречи и меня покорил своим обаянием и блеском, и слушателя в нём я нашёл благодарного и понимающего. Да и, конечно же, льстило мне столь горячее внимание со стороны человека, который в моих глазах уже тогда был мэтром. Не говоря уже о том, что, будучи уже не совсем юным и кое-что в жизни к тому времени повидав, я почувствовал в нем искреннее дружество к себе именно как к младшему товарищу по перу — не столь уж частое явление в литературной среде, прямо скажем… А какой молодой поэт не жаждет такого внимания к себе, такого признания и дружества!
…Но в совершенно неописуемое состояние ошеломления впал Михаил Абрамович, услышав от меня о том событии в пригородном парке под Калькуттой, о встрече с давно уже впавшим в безумие гениальным бенгальцем.
Тут уж вся экспансивность моего старшего приятеля просто выплеснулась наружу. Он начал, по-нынешнему говоря, «раскручивать» меня, самым въедливым и дотошным образом выпытывать у меня даже мельчайшие подробности и эпизоды того воскресного дня в промытой муссонами Индии. Он, к примеру, заставил меня вспомнить и рассказать ему, во что был одет Назрул Ислам, представший перед моими глазами шестью годами ранее. И хлопнул себя по лбу:
«Точно! Значит, его друзья-мемуаристы правду писали — что психиатры им рекомендовали одевать Назрула, лишившегося рассудка, в такие же одежды, какие он носил, войдя в славу — надеялись, что это поможет ему хоть частично сохранить прежний, здравый взгляд на вещи…»
Мишу интересовало и то, что и как говорили мои приятели-бенгальцы о своём любимом поэте, и даже какое выражение глаз было у них при чтении и пении его стихов. Я добросовестно рассказывал моему старшему товарищу всё, что запомнилось… Наконец, он вздохнул и медленно, почти с трудом, произнёс:
«Пойми… Я не случайно и не из праздного интереса тебя вот так мучаю. Я его сейчас перевожу, да! уже несколько лет этим занят. Самое заветное дело для меня стало — над его стихами с ума сходить. Правду тебе говорю: часом и сам не рад бываю, что за него взялся — свихнуться же можно от него! Это же целая вселенная! Если Тагор — это как Пушкин для бенгальца, то Назрул — их Лермонтов. С Батюшковым же он лишь несчастьем своим схож, долгим безумием. Вот и я, честно тебе скажу, временами боюсь с ума сойти, его переводя… Хочешь послушать?»
Стоит ли говорить о том, с какой радостью я согласился на это предложение. И Миша обрушил на меня целую лавину своих переложений назруловской поэзии, читая их своим страстным, бархатно-тигриным баритоном:
…Игра с огнём, всерьёз. И ты смогла
её начать одним коротким взглядом.
когда со мной ты очутилась рядом —
и вспыхнула сама, и обожгла.
Как будто в омут с берега реки
бросаешься в раскрытые зрачки.
Ресницы — вниз! Не говоришь ни слова.
Глаза поднимешь — и с обрыва снова…
… «Веришь ли, старик, мне временами кажется, когда я в его стихах тону, что он — он сам! Назрул, рядом со мной сидит, берет у меня перо я за меня по-русски пишет, — во до чего! ну как тут не свихнуться… Да и не ног он с ума не сойти, по-моему: как человеку, словно с ободранной кожей живущему, было сохранить в той резне рассудок, в тех распрях, в кровище и в предчувствии ещё большей кровищи, а?! Сам же он об этом написал, послушай:
«Слышишь, плачет голодный мальчик — все нутро сжигает огонь! Я гляжу на него — безумье застилает мои глаза!»
«Вот и застлало оно ему глаза навсегда, — сказал Михаил. — И все Назрул о себе предсказал, как великому поэту дано предсказывать:
«Не боюсь ни смерти, ни жизни.
Солнце встало над головой.
Даже если погибну рано —
остаются сотни друзей…»…
«Вот так и произошло!» — молвил мой старший друг.
… В Пёстром зале ЦДЛ, где стены изузорены рисунками, стихами и автографами знаменитостей, в Пёстром зале, где поэты за столиками с кофе и гораздо более крепкими напитками в те советские времена допоздна «учитывали» друг друга и своих поклонников и поклонниц своими свежими «нетленками» — в Пёстром зале уже гасили свет. Но Миша уже не мог остановиться, не в силах был выйти из вдохновенно-восторженного состояния, которым заразил и меня. Он потащил меня — нет, не к себе домой: мы вскоре оказались в уютной гостеприимной квартирке одной из его самых верных и давних (хотя выглядевшей ещё свежо и привлекательно) почитательниц. И до раннего утра мой старший друг сводил меня с ума созвучьями, созвездьями и соцветьями строк нашего любимого бенгальца, звучащих по-русски…
Хозяйка дома тоже с восторгом и с упоением внимала завораживающему баритону своего давнего кумира. Впрочем, она не забывала время от времени подносить нам чашечки с дымящимся кофе и бутерброды, а такие не оставлять пустыми наши рюмки… Порою на ее глаза набегали слезы. Как было им не набегать, когда её старинный возлюбленный, глядя ей в глаза, не просто декламировал, а словно бы выдыхал строки любви:
Только ты приходи, я всегда тебя жду, я готов,
приходи — я забуду безумье протёкших годов.
Только ты приходи, оставайся во имя любви.
Приходи! Без тебя задыхаются песни мои…
Меня же в Мишиных переводах прежде всего, потрясло совпадение музыки русского слова с музыкой индийской духовности. Та органная клавиатура чувств, которая покорила меня давним воскресным днем в Калькутте, та тысячецветная и тысячезвучная «гармония контрастов», что загипнотизировала меня в творениях Назрула Ислама, все то, что я ощущал и сознавал, но с трудом мог облечь даже в слова разговорной прозы, а уж тем более не мечтал передать русскими стихами — все это Михаил Курганцев передал, переложил и высказал языком самой блистательной нашей поэзии, завораживающей и всепроникающей!..
… Но вот под утро, когда наши «назруловские чтения» завершались по причине усталости всех их трёх участников, мой старший друг вдруг погрустнел. (Да, вообще-то его, являвшего собой образец жизнерадостности, я не раз видел грустным, печально-задумчивым, даже и о какой-то нелёгкой горькой думой в глубине его больших и красивых темно-карих глаз. Но таким он бывал, как правило, не на людях: грустные свои состояния считал недостойным демонстрировать другим…) Погрустнел, в очередной раз пригубил пятизвёздочный дар армянских виноделов и вымолвил невесёлое творческое признание:
«И вот же, старик… Столько перевёл, книга уже готова, сдавать в издательство надо, договор ведь у меня на неё, а — терплю фиаско!»
«Да быть не может такого! — искренне удивился я. — У тебя — и вдруг фиаско!»
«Может, старик может, — печально сказал Миша. — У всех у нас такое может быть… Словом, наткнулся я у него на одну поэмку, ну, или что-то вроде баллады о несчастной любви, такая потрясающая — просто нельзя её не перевести! А — не получается, как ни бьюсь…»
Миша стал излагать мне содержание этой большой любовной баллады. «Как если бы Ромео был отвергнут Джульеттой, причём уже в самом финале, после их близости. Вот он и клянёт её, и зовёт, и умоляет, в общем — с ума от тоски сходит».
… Содержание баллады показалось мне знакомым. Вспомнилось: именно это страстное любовное заклинание не смог допеть до конца молодой бенгалец в калькуттском парке — оборвал напев, отбросил свой ситар и расплакался. Слишком близкой оказалась, видно, его неласковой личной судьбе горестная драма, прозвучавшая из уст героя этой баллады… Я рассказал Михаилу и об этом. Лицо его стало совсем мрачным. Он помолчал, встал с дивана, глянул в уже светлеющий предрассветный сумрак окна — и тяжко вздохнул:
«Вот в том и беда моя… Мне ведь надо, переводя, перевоплотиться в этого несчастного парня. Ну, в такого, как он. Влезть в шкуру человека, несчастного в любви… А я, веришь ли, не могу. Не получается, хоть убей! Кем угодно могу стать в стихе: бунтарём, борцом, бойцом, романтиком и стоиком. Хоть рикшей, хоть гейшей! Ну, обалдевшим от счастья любовником — это завсегда, за милую душу, с нашим удовольствием… А вот несчастным, отвергнутым влюблённым — не могу! Фальшь получается, фигня всякая… Ну, неточность какая-то, пусть даже всего лишь в интонациях, но — ты же должен понимать: в нашем деле — это уже вранье. Это провал. Может, мало кто и заметит, но я-то сам собой оплёван буду… Вот! Не влезть мне в шкуру отвергнутого влюблённого…»
«Что, Миша, — опросил я, — неужели никогда с тобой такого не бывало?»
«В том и дело — не то, чтоб никогда, а — лет в шестнадцать, единственный раз. Ну, в таком возрасте эти раны быстро забываются, заживают… Вот, помню, что было со мной такое когда-то, а ощутить в себе этого уже не могу».
«И что, с тех пор ты всегда в любви был счастлив?»
«Ну, по крайней мере — удачлив!» — грустно усмехнувшись, ответил Михаил. И продолжил: «Знаешь, наверно, я как-то интуитивно всегда клал свой глаз только на тех женщин, во взаимности которых не сомневался… А поэзия, любовная, настоящая — она ведь рождается не от удач, не от успехов на этом поле, а — от горя, от боли, от разлуки. Много ли ты знаешь жизнерадостных стихов о любви? Таких, чтоб их можно было бы шедеврами назвать, ну, или хотя бы просто хорошими, до нутра проникающими, за живое берущими… Вот тебе и ответ. Так-то, старик…»
Михаил замолк, а потом вновь заговорил с каким-то мрачным воодушевлением:
«Вот поэтому-то, друг мой, я не стал поэтом. Всего лишь переводчиком остался. Такая тут альтернатива: либо ты страдаешь, но пишешь то, что никто до тебя не писал, либо — ты купаешься весь свой век в любовных радостях, но — настоящим поэтом не станешь.
На-сто-ящим! вот главное, а не просто стихи пишущим человеком…»
Так говорил мне мой старший товарищ по искусству поэтического перевода, когда мы уже выходили на рассвете от его гостеприимной почитательницы.
Что ж, он относился к нашему поприщу со священным трепетом. А можно сказать проще: он был высоким профессионалом, и своё творчество, и самого себя как художника слова судил по самым высоким и строгим меркам. Такое — редкостью являлось и в те требовательные времена; ныне же, кажется, подобный профессиональный уровень и вовсе вымирает. Причём не только в литературе, но и всюду, куда ни глянь. Хоть в морском деле, хоть в делах управления государством — всюду профессионалы и мастера вытесняются убогими дилетантами, «самодеятельностью»…
И всё же, я убеждён, Миша чересчур строго относился к себе. Ибо, еще раз говорю, поэтом, художником слова он был истинным… И вскоре после того ночного поэтического застолья я убедился в том, что он способен «прыгать выше головы», возвышать свой творческий дух над своим житейским уровнем.
Мы после той встречи не виделись около месяца. В писательском клубе Михаил Абрамович не появлялся. Я звонил ему в институт Азии и Африки (где, между прочим, руководителем его отдела был учёный, который лет двадцать спустя, в «демократические» годы, стал шефом внешней разведки страны, затем министром иностранных дел, и, наконец, хоть и ненадолго — премьер-министром России), — там отвечали, что он ушёл в творческий отпуск. Жена же его по телефону несколько раз устало объясняла мне, что муж в отъезде, а когда объявится — сам мне позвонит. Так и случилось…
Мишин голос в телефонной трубке показался мне не просто «севшим», более хриплым, чем прежде, но и каким-то посуровевшим, если не постаревшим.
«Что произошло, Михаил Абрамович?» — встревоженно опросил я.
«Сразу два события произошли, приезжай, расскажу».
И впрямь — за месяц, что мы не виделись, мой друг как-то осунулся, в смоляной бороде стало больше серебра, глаза его сверкали каким-то не знакомым мне прежде блеском…
«Садись и слушай, — сказал он мне почти командным голосом. — Я все-таки влез в шкуру несчастного влюблённого. Я перевёл ту балладу! Немного пришлось её, правда, сократить… Но — перевёл. Самому не верится!»
И он, поначалу с необычным для него волнением, сипловато, но потом все более крепнущим голосом стал читать мне свой грандиозный перевод баллады «Заклятье…
И, когда он дошёл до финала, голос его уже звенел — звенел слёзным отчаяньем несовершенной страсти, звенел невыразимой мукой безответной любви:
Задрожат твои пальцы, плетущие белый венок,
и в слезах ты припомнишь того, кто сегодня далёк,
кто исчез и растаял, как след на сыпучем песке,
кто тебе завещал оставаться в слезах и тоске,
в одиночестве биться, дрожа, как ночная трава.
Вот заклятье моё! И да сбудутся эти слова!
… Лишь через несколько минут после того, как отзвучали последние строки «Заклятья», я смог что-то произнести. А когда разлепил губы, ощутил, что по лицу текут слезы.
… Да, тогда мы ещё могли себе позволять такую роскошь — плакать, слушая проникновенные стихи или музыку…
«А сейчас ты ещё раз заплачешь», — сказал мне Миша, когда мы выпили за окончание его работы над книгой трагического индийца. «Сейчас мы выпьем, не чокаясь».
«Что случилось? Кого не стало?» — встревоженно спросил я.
«Вчера мне позвонил мой бывший аспирант из Калькутты. Сказал, что Назрул Ислам умер… Представляешь, какое совпадение: я только-только точку поставил в этом «Заклятье», и тут же — такая весть»!
«Да, совпадение, — ошеломлённо выдавил я, — мистика какая-то! А впрочем, с индийцами иначе не бывает, все у них на уровне чего-то сверхъестественного…»
«Да не только в Индии тут дело, — возразил мне Курганцев. — С гениями всегда так — на уровне чуда. Не думай, что меня мания величия обуяла, но… мне вот что подумалось. Душа Назрула устала болеть на этой грешной земле. Болеть за судьбу своих трудов. А когда ей стало ясно, что его стихи будут жить и в России — вот она тут и успокоилась, и отошла в миры иные…»
И, разлив по рюмкам коньяк, Миша добавил: «В общем, отмучился Назрул».
И мы, не чокаясь, выпили за упокой души бенгальского гения, который, сам того не ведая, скрепил наше дружество.
Через год в «Художественной литературе» вышла книга стихотворений и поэм Назрула Ислама. Она называлась «Надежда». Предисловие к ней было написано её переводчиком — моим старшим другом Михаилом Курганцевым. И, читая это предисловие, я несколько раз улыбался: там встречались те штрихи и подробности, которые Миша узнал из моих устных мемуаров…
И уж совсем особой радостью, знаком особой дружеской приязни стало для меня то, что переводчик «Надежды» подарил мне первый, «сигнальный» экземпляр этой книги.
Я написал о ней — и о её авторе, и о её переводчике — очерк, пространный и восторженный, в тогдашнем моем духе. Он был напечатан в солидном «толстом» журнале. Правда, редактор (тоже в тогдашнем духе) все мои восторги по поводу личности переводчика вычеркнул, буркнув: «Это слишком субъективные оценки». Вычеркнул он и мои воспоминания о встрече в Калькутте: «Читатель сочтёт их художественным вымыслом, и это подорвёт доверие к нашему журналу»… Но — дело было сделано. И «это дело» мы с Михаилом Абрамовичем опять-таки крепко и длительно обмывали…
…Но главное дело было в ином.
Назрул Ислам стал жить в поэзии русского языка. Он пришёл к русским читателям. И не только к читателям.
В этом мы убедились довольно скоро…
★ ★ ★ ★ ★
5.
Однако это произошло не в лучшую для меня пору моей жизни. Можно даже так сказать: то была, пожалуй, самая тяжкая её полоса, знаменовавшая собой, словно полоса границы, окончательное завершение моей молодости. Когда эта полоса кончилась — наступила зрелость… Тут ни к чему вдаваться в подробности, ведь я — не герой сего повествования, а рассказчик, и речь не обо мне. Поэтому — лишь то, что к повествованию относится.
Вышеупомянутые «обмывания» стали для меня чуть ли не основным времяпровождением. Поводов же для них находилось всегда с избытком: стоило лишь оказаться в том самом, Пёстром буфете нашего писательского клуба, не говоря уже о ещё более шумном нижнем, «погребке» — эти поводы являлись сами собой. На год с лишним стал я завсегдатаем литературно-злачных и просто злачных заведений, а вот в творческой моей жизни стала образовываться катастрофическая «чёрная дыра». Да и в жизни вообще… Все шло от плохого к худшему. Многие, звавшие себя моими друзьями-приятелями в пору моего весьма успешного дебюта, стали от меня отворачиваться…
Михаил Абрамович Курганцев — не отвернулся. Этим, полагаю, сказано главное.
…Однажды я в очередной раз нырнул в «погребок» и увидел там своего старшего друга-переводчика, сидящего за столиком вдвоём с человеком, чьё лицо сразу же мне показалось знакомым, известным. Пригляделся издалека: да, восходящая (и, можно сказать, уже взошедшая) звезда отечественной эстрадной музыки. Но знакомо его лицо мне было не только потому, что он уже довольно часто появлялся на телеэкранах. Мы и впрямь могли назвать себя знакомыми, пусть всего лишь «по касательной»… В годы нашей с ним общей творческой молодости мы с ним несколько раз, что называется, «пересекалась».
Бывало — оказывались в одной и той же сборной бригаде молодых вокалистов, актёров и литераторов, направлявшейся для поднятия духа строителей «магистрали века» — так называли тогда только что начавший греметь на всю страну БАМ. Бывало — оба становились участниками какого-либо большого вечера искусств в одном из столичных залов. Ну, и так далее: подобных знакомств в те мои шумно-буйные года у меня завелось множество. Кое с кем из сверстников-актёров и певцов завязалось приятельство, пусть всего лишь застольное, — но с этим синеглазым красавцем даже и того на тот момент не образовалось.
А был он, Женя Мартынов, действительно по-своему очень красив… Такой внешностью природа наделила его, что при взгляде на него то Есенин вспоминался, то Лель из «Снегурочки», а то строчка из его же, Мартынова, сладкозвучной песни — «как прекрасна эта сказка наяву». Действительно, нечто сказочно-фольклорное светилось в облике этого голосистого художника современной песенной музыки, в его лазоревых глазах, одновременно и наивных, и чуть хитроватых, в его по-мальчишечьи округлых щеках, окаймлённых русыми, длинными по тогдашней «битловской» моде и чуть вьющимися кудрями…
И, когда Миша радушно позвал меня за их столик и представил нас друг другу, а его собеседник и сотрапезник, тоже радостно и широко улыбаясь, сказал: «А мы уже знакомы!» — не скрою, мне это польстило. Нет, не потому, что Женя к тому времени уже действительно становился знаменитостью. Я и в молодости не особенно жаловал нашу эстраду и её шоу, и тогда уже изобиловавшие дурной «попсой». (Хотя той, советских лет «попсе» по дурновкусию и низкопробности далеко до испарений, миазмов и маразмов нынешней рок-индустрии…)
Однако Женя среди эстрадного чертополоха вырос другого поля ягодой. Его песни очень соответствовали его облику: чистые, светлые, искренние, удивительно по-русски мелодичные… Читатель постарше, вспомни: «Как живёшь ты, отчий дом, о нежной грустью о былом!» Вспомните, длинноволосые ребята семидесятых годов, как вы голосами ваших тогдашних ВИА обещали вашим подругам: «Я тебе весь мир подарю!»
Песни Жени Мартынова исполняли лучшие певцы тех лет — настолько эти песни были живые: их нельзя было петь «под фанеру», только вживую. Солнечным светом, сиреневым и яблоневым цветом дышали они… Но их автор и сам любил дарить слушателям — своим звеняще-молодым и добрым голосом. Вспомните: «Белая сирень, белых хлопьев стая!» А вот это, конечно, помните: «Яблони в цвету — какое чудо!» Повлажнели глаза? то-то же… Так что вы понимаете, почему я был обрадован тем, что Женя сообщил нашему старшему другу о нашем знакомстве. Польстило, что и говорить…
«Садись, старик, — сказал Михаил, ставя передо мной бокал и наполняя его влагой, которая в тот миг моему организму была остро необходима. — Ты очень кстати появился. Нет, без дураков, серьёзно, очень вовремя. Знаешь, мы чем тут с Женей заняты? — песню слагаем!» И он показал на лежавшую на столе зеленоватую книжку Назрула Ислама. «Женя просто гениальную музыку сочинял!»
«А на какое стихотворение?» — поинтересовался я.
«А догадайся с трёх раз!» — озорно воскликнул Курганцев.
Я глянул ему в глаза. Там, в карей темноте сверкали ярые, вдохновенно-радостные искры. Потом я глянул в улыбчивую синь глаз Жени, уже немного хмельных, и — догадался с одного раза… Да, Евгений Мартынов написал музыку к «Заклятью».
Но трудность моих друзей-соавторов будущей песни (собственно, главным-то соавтором был бенгальский поэт, но он уже ничем не мог им помочь) состояла в том, что эта баллада, эта маленькая поэма, сама по себе не столь уж длинная, была по количеству строк, мягко говоря, великовата, чтобы стать песней. Чтение её вслух занимает минут пятнадцать, если не меньше. Но, сами понимаете, лирическую песню столько времени петь невозможно… Вот и сидели они вдвоём, автор музыки и создатель русского текста, вот и решали они извечный вопрос: что делать? Женя уверял, что текст надо сокращать раза в два, если не в три. Миша совсем не театрально закатывал глаза и заламывал руки:
«Я и так виноват перед Назрулом, я уже сократил эту вещь в переводе, ужал ее строк на сорок! Ума не приложу, что тут ещё можно сократить!»
Словом, моё появление в «погребке» нашего клуба действительно пришлось кстати. Оба они, поэт и композитор, ждали, как говорится, моего компетентного совета. Ведь мне не раз доводилось в Индии слышать тамошний образец песни на эти стихи, и даже не один, а несколько. В разных краях страны эту балладу поют на свой лад, но чаще всего — какую-то её часть, хотя и значительную: индийские песни вообще лаконизмом не страдают…
Выпив за встречу, а потом за грядущий успех совместного творения моих товарищей, я сказал им, что мне надо бы послушать музыку, прежде чем давать какие бы то ни было советы. И, прихватив с собой и выпивку, и закуски, мы поднялись наверх, где в одной из гостиных нашего Дома литераторов стоял рояль. Женя сел за него, пробежался пальцами по клавишам и — запел, глядя в раскрытую книгу индийского гения:
Я уйду навсегда, я окажу напоследок: «Прости».
Я уйду, но покоя тебе никогда не найти.
Я уйду, ибо выпито сердце до самого дна.
Я уйду, но останешься ты со слезами одна…
… И, когда он спел свою балладу от первой до последней строчки, глаза блестели влагой и у Миши, и у меня, и у синеокого Леля-исполнителя. И не потому, что мы расчувствовались, хорошо «подогревшись». Как раз наоборот — с меня к финалу исполнения весь хмель слетел, причём хмель многодневный… Каждому из нас до боли, до слез ясным стало: этот текст надо сокращать, чтобы он стал песней. Но делать такое — резать по живому!
«Будь моя воля, — Женя стукнул кулаком по клавишам так, что рояль весь недовольно загудел, — так я вот всю эту балладу пел бы, все как есть. Но! — кто ж мне такое позволит?! На каком-нибудь, скажем, своём, авторском концерте ещё может такой вариант пройти, можно попробовать, а уж для записи, на радио, на ТВ — ни в коем разе!»
И мы тут же начали все втроём ломать головы над тем, какие двустишия и четверостишия можно удалить из «Заклятья» без ущерба для главного смысла будущей песни. Думали мы над этим, бились, творили, спорили до хрипа часа два, не забывая, разумеется, при том подогревать свое вдохновение принесённой с собой «водой жизни»… Дом литераторов уже закрывался, а у нас, конечно же, ещё ничего не вытанцовывалось. Тогда старший из нас хлопнул меня по плечу:
«Сейчас ты нас ещё раз выручишь. Возьмём сейчас в буфете с собой, пока не закрыли — и к тебе, а?!»
Идея была столь же конструктивной на первый взгляд, сколь и нелепой при самом первом ее осмыслении…
К тому времени я, разведённый, жил один в коммуналке, в доме, что стоял (и поныне стоит, хоть и донельзя реконструированный, банком ставший) буквально в двух шагах от нашего писательского клуба. (Хотя, бывало, даже и то мизерное расстояние я с трудом одолевал, в «погребке» или в Пёстром зале посидев). И многие мои приятели-коллеги, они же и собутыльники, частенько заруливали ко мне, когда «Кастальский ключ» в ЦДЛ иссякал до следующего утра, и всех посетителей, будь то живые классики, будь то начинающие, просили удалиться многотерпеливые служители клуба… Мои соседи по коммуналке были, сами понимаете, не в восторге от этих шумных гостеваний, нередко затягивавшихся до утра, а то и плавно переходивших в дневные пиршества.
Не раз уже успел побывать в моем холостяцком жилье и Миша — иногда я со своими поклонницами. И уж кому-кому, а ему-то, самому здравомыслящему из нас троих хотя бы в силу возраста, ясно должно было быть, что сокращать в моей берлоге мы будем не столько текст баллады, сколько количество спиртного в бутылках, взятых с собой…
Так оно и случилось.
Часа через два автор русского текста будущей песни сказал уже довольно-таки нетвердым голосом:
«Ребята, сегодня мне надо ночевать дома — у моей терпенье уже на нуле!» — и отправился искать ночное такси. А вот автору музыки уже не достало сил, чтобы подняться из-за стола и плавно переместиться на диван…
Утром меня разбудил отнюдь не певческий голос молодого композитора — в том голосе дрожали и звенели отчаянно-виноватые нотки:
«Кисанька, не сердись, кисанька, не ругайся! Кисанька, так получилось, кисанька, я скоро приеду!» Судя по всему, «кисанька» метала громы и молнии: трубка в руках восходящего светила музыки вздрагивала…
Тем не менее, ещё раза два или три мы встречались все втроем, уже дав друг другу слово, что «ни капли, ни граммулечки» до тех пор, пока, по крайней мере, не сделаем хотя бы черновой вариант. Правда, мы были хозяевами своего слова, поэтому обходились с ним по-хозяйски — не давали ему напоминать нам о себе… И однажды Михаил Абрамович, увидав, что его младшие товарищи по творческим трудам стали «тепленькими» уже в самом начале очередной попытки свершить сии труды, не выдержал и рявкнул:
«Ну вас на хрен, салаги! Пить не умеете! Так у нас до второго пришествия ничего не получится, никакой песни… Сам всё сделаю!» И ушёл. И совершенно правильно поступил.
…Долго ли, коротко ли, но баллада Назрула Ислама «Заклятье» была сокращена более чем вдвое ее переводчиком Михаилом Курганцевым и стала песней Евгения Мартынова. Дивной, трагичной и неповторимой песней…
Сначала на одном из своих концертов её исполнил сам автор музыки, потом её подхватили несколько хороших певцов, молодых и маститых, она стала лауреатом всесоюзных и международных конкурсов песни (что происходило со всеми творениями Жени — ну, почти со всеми). И лет пять-шесть «Заклятье» звучало по радио и в телеэфире почти ежедневно. Пока её не выдавило из эфира звуковое беснование «катастройки»… Впрочем, та же участь постигла и другие человечные и добрые мелодии.
…И всё же в самое последнее время что-то сдвинулось в лучшую сторону, хоть и слегка. И песни Евгения Мартынова стали понемногу возвращаться на звуковые дорожки радио. («Ящик» же — это уже настолько сатанинская система, что я и не чаю дожить до того дня, когда с «голубых» и всё более «голубеющих» экранов польются сколь либо гармоничные звуки…) В сущности, потому я и взялся за этот рассказ, давно уже замасленный, что недавно в один и тот же день сразу по двум волнам радио услыхал щемящие ноты «Заклятья», исполненные и русской боли, и индийской печали, и всечеловеческого света духовного. Пришла пора возвращений к добру… По крайней мере — приходит.
★ ★ ★ ★ ★
6.
А с Женей Мартыновым я ещё несколько раз сходился в застолье и после того, как завершилась их с Мишей работа над их общим творением. Нет, не ради того, конечно, чтобы просто выпить со входящим в славу молодым мастером песни. Признаюсь, моё самолюбие тоже ещё довольно-таки молодого по тогдашним меркам поэта было несколько ущемлено. Замечательно, думал я, что Женя своей музыкой расширил круг почитателей моего старшего друга-переводчика. Ну, а мои стихи?! Все говорят, они мелодичны, музыкальны, песенны по сути — а ни одно из моих стихотворений песней не стало. Несправедливо, так думалось мне… Вот я и подарил своему новому приятелю-композитору несколько моих книжек, журналы с моими виршами да ещё и пачку новых рукописей. Не может быть, думал я, чтобы хоть что-то не нашло отклика в нежной лирической душе Жени!
…Он и написал бы на мои стихи песню… наверное. Даже — скорее всего. Он, держа в руках то мою книжку, то листок с новым творением, иногда вдохновенно читал вслух, восторгался на нашем тогдашнем «молодёжно-творческом» жаргоне. Изрекал что-то вроде: «Старик, это мощно до бессмертия!» Или: «Ну, ты гигант!» Иногда намурлыкивал какую-либо мелодию, говоря: «Ну, немного посидеть нам обоим, кое-что доработать, и — готовая песня. Забойный шлягер!» (Словечко «хит» тогда еще не вошло в обиход).
Но… В том и беда была, что сидеть-то мы с ним сиживали, и не раз, да только за рюмками, за стаканами, за бутылками — а не за «доводкой до ума» моих строк в соединении с его музыкой. И наши посиделки каждый раз завершались одинаково, у меня, в моей комнате коммуналки. И каждый раз поутру Женя дрожащим тенором слал свои страстные мольбы с повинной в телефонную трубку. «Кисанька, это в последний раз! Кисанька, я уже еду!»
В конце концов «кисанька», то есть его законная супруга (её, долготерпеливую, кажется, Наташей звали) запретила ему под угрозой развода встречаться со мной вообще. И, позвонив мне, жёстко-ледяным тоном потребовала, чтобы я прекратил сбивать с пути истинного её мужа. Что тут было делать?
«Старик, ты же сам понимаешь, должен понимать: она по-своему права», — рассудительно молвил Михаил Абрамович, узнав об этом. И я, тяжко вздохнув, был вынужден с ним согласиться… Так вот и оборвалось наше, едва начавшееся дружество с Женей Мартыновым.
Правда — не само знакомство. Оно продолжилось.
Года через четыре мы опять оказались оба участниками большого концерта в Колонном зале. Евгений, увидев меня, радостно распахнул навстречу мне свои объятья. «Что ж ты не объявляешься, куда исчез?! У меня несколько крутых заготовок появилось к твоим стихам, надо бы встретиться, посидеть над ними, а?!»
И мы опять попытались «посидеть»… Но — все повторилось, — правда, в «зеркальном», в обратном варианте. Ибо я к тому времени уже несколько лет жил с новой женой в новой квартире. В жизни моей пошла было весьма неплохая полоса, и, что, прежде всего к делу относится, я стал совершенным трезвенником… А вот Женя по-прежнему не мыслил «творческого общения» без выпивки. И тут уже моя «кисанька» воспротивилась нашему с ним сотрудничеству, наперед зная, чем оно может для меня обернуться. Творец прекрасных песен обиделся, и мы опять не виделись довольно долго. Через несколько лет он сам позвонил мне: помнится, ему понадобилась от меня некая консультация по тонкостям стихосложения и по теории стиха… Когда разговор на эту тему был завершён, я опросил его, как дела вообще. Он вздохнул:
«Знаешь, почему-то всё трудней… Перестройка, новые веяния… чувствую, что-то иное от меня требуется. Выходит, не то я раньше пел и писал, а что надо — понять не могу».
И, помолчав, мастер лирической песни добавил, снова вздыхая:
«А вообще наши драгоценные супруги правы, ни дна им, ни покрышки — встречаться нам надо по-трезвому. А это у меня в последнее время что-то с трудом получается… Давай как-нибудь пересечёмся на трезвую голову… на мою, а?»
Конечно же, я согласился с охотой.
Но встретились мы опять-таки нескоро, через год или два. И при самых прискорбных обстоятельствах. На похоронах нашего общего старшего друга…
…Когда наступило «время перемен», Михаил Абрамович поначалу преисполнился самых радужных надежд. Просто помолодел! Да и не без оснований: он стал часто ездить за рубеж, и вместе со своим шефом (тем самым, будущим премьером), и сам по себе, побывал в тех странах, о поездках в которые прежде и не мечтал. В его переводах вышли несколько книг поэтов, считавшихся в прежние времена «нежелательными» для наших издательств. Словом — воспрял Миша!
Но — ненадолго…
Чем сильней разгоралась «перестройка», тем чаще стал я видеть своего старшего друга задумчивым, а то и грустным. А потом и вовсе некая, поистине «иудейская» печаль стала поселяться в его глазах, вытесняя из них весёлую искристость. Не преувеличиваю: это был в ту пору единственный человек, глядя в глаза которого, я ощущал всем существом своим, что это такое — древняя, ещё в незапамятные времена рождённая, и вот опять возникшая наяву, возродившаяся боль… Именно от него я впервые услыхал выражение «баррикадное сознание»…
«Понимаешь, старик, — говорил он мне, — я просто физически чую: на части меня мои друзья-приятели рвут. Одни — в одну сторону, другие — в противоположную, третьи — ещё куда-то. И все зовут на те или иные баррикады! Все делиться стали — на лагеря, на фронты… А я не хочу делиться, себя самого разрывать, своих старых корешей разделять на «своих» и на «чужих». Не хочу я в этом «баррикадном» состоянии пребывать, с «баррикадным» сознанием жить, не могу!»
И ещё раз, несколько позже: «Соплеменники мои в восторге — мол, теперь можно свободно уезжать и на землю предков, и за океан. А мне-то что с того?! У меня земля предков — здесь. Да, я тоже хочу ездить на сколько угодно и куда угодно, и в Израиль, и в Индию, и… к чёрту лысому… Нет, не к этому! (Он взглянул на портрет генсека, красовавшийся в его кабинете). Но жить-то я хочу здесь, в России: для меня она — «историческая родина», моя страна. А для многих моих корешей и сородичей она теперь «этой страной» стала!»
И ещё как-то раз…
«Знаешь, я всегда радовался тому, что ты непьющим стал. А вот сейчас — не радуюсь. Кроме тебя, почти не с кем теперь поговорить за рюмкой о поэзии, о литературе вообще, да и… о прекрасных дамах тоже… С одним сядешь, он тебе: а ты слышал, какой скандал сегодня в Верховном Совете был? С другим старым собутыльником встретишься, а он: ты ещё из партии не вышел? а я уже выхожу! Да с гордостью, будто на амбразуру кидается — а ведь непременный член всех составов парткома был, только про баб и мог раньше трепаться… Тьфу, противно, дружище — не с кем выпить по душам!»
А однажды (по-моему, то был едва ли не самый последний наш с ним разговор) мэтр поэтического перевода вдруг спросил меня:
«Ты, извини за нескромность, давно в моего Назрула не заглядывал, в переводы мои, а?»
Я честно признался, что давно. Он вздохнул:
«Я тоже… А вот недавно как-то случайно раскрыл эту книжку наугад — и вот что прочитал:
Друг мой! Я говорить не в силах.
Яд сжигает сердце моё.
Оттого, что вижу и слышу,
закипает гневная кровь…
Веселятся вовсю банкиры
и жиреют ростовщики.
Волчья стая чует добычу —
блещут зубы, горят зрачки…
«Тебе это ничего не напоминает, а?» — и, не дожидаясь моего ответа, Михаил угрюмо стукнул своей рюмкой мой стакан с минералкой. — «Ладно, будь здоров! Твоей водичкой только за «гласность» и «плюй в реализм» опохмеляться… Видишь, Назрул и нашу прекрасную действительность предугадал! думал ли я, когда это переводил, что он и для нас пророком окажется…»
«Что с тобой, Миша? — осторожно спросил я старшего друга. — Вроде бы у тебя всё в порядке?»
«Ага, лучше некуда! — горько усмехнулся он. — Ну, просто везуха, как у того бедного еврея, который на шикарной свадьбе почётным гостем оказался — да только та свадьба имела место быть в сумасшедшем доме, охваченном пожаром во время наводнения… Не хочется мне, старик, терять свой природный оптимизм, да только… Может, и правы те мои приятели, которые меня уверяют в том, что впереди — светлые времена. Может, и светлые. Но — не мои! Не для меня времена…»
Вскоре он уехал на юг, в Дом творчества (который через несколько месяцев, никуда не перемещаясь, оказался зарубежным, стал достоянием «суверенной» республики, а затем и вовсе перестал существовать) Оттуда Михаила Абрамовича уже привезли — прямо в Малый зал нашего писательского клуба, где у нас обычно происходят гражданские панихиды… Диагноз у него был какой-то сложный. Его жена сказала мне: по одной версии — перитонит, по другой — внезапная остановка сердца. Но это медицина, плоть… А я знаю иной, более точный диагноз.
Миша просто не мог больше жить. Он не смог бы оставаться собой в «баррикадном» мире, видя своих друзей и товарищей разделившимися на «лагеря». Он вообще не любил слово «лагерь».
…В Малом зале, среди людского множества (преимущественно среди заплаканных женских лиц) я почувствовал: кто-то пожимает мне руку. Оглядываюсь: на меня просто брызнула слезная синева по-прежнему детских глаз Жени Мартынова.
Тогда, сидя рядом с ним на поминках, я с трудом не нарушил обет трезвенности. И не только потому, что черно было на душе: тяжко было смотреть на Евгения и слушать его. От его прежней улыбчивости не осталось и следа. Что-то сказочное в его облике сохранялось еще, но то была, скорее, сказочность мальчика, то ли в лесных дебрях заблудившегося, то ли злыми гусями-лебедями украденного…
«Кошмар, какие дни настали, — горько сетовал он. — Я-то думал: и вправду свобода придет, чтоб никакой цензуры и прочих глупостей… Куда там! цензуры нет, а глупостей выше неба стало новых. Ты не представляешь: на радио, а тем более в Останкино теперь не пробиться. Везде какое-то новое начальство, им песни не нужны. Мои, по крайней мере… И, куда ни сунься, везде одно — плати. Ну, ясное дело, я раньше «подмазывать» приходилось, там, за участие в каком концерте престижной, за классную запись… Но — нынче такса во сто раз выше стала, хоть разорись! Вдобавок, раньше хоть знал, кому на лапу класть, а теперь и этого не знаю…»
Я, как мог, утешал Женю, уверял его (впрочем, без большой убеждённости в своих словах), что всё должно наладиться, что истинное искусство при любых властях необходимо, а уж хорошая песня — тем более. Но он безнадёжно махнул рукой:
«Брось ты… Мне говорят: пиши в стиле рок! А я хороший рок люблю, но сам, хоть застрелись, не могу его писать. Не моё это… Или, что уж и твоей епархии касаемо: хочу два цикла написать, один на стихи Заболоцкого, другой — на стихи Рубцова. А мне эти менеджеры новоявленные наотмашь рубят: нынче такое не пройдёт, ты лучше что-нибудь на тексты Бродского выдай! А если я ничего в этом Бродском для себя не вижу? Ну, и как мне жить?!» — вопрошал меня недавний кумир эстрады, и в его глазах плескалась страдальческая синева…
Мы договорились, что вскоре встретимся. И вновь — и в последний раз — мы увиделись примерно через год. Я подарил Жене свою новую книгу, самую заветную для меня на тот час. Дня через два он позвонил мне: «Слушай, тут меня кое-что зацепило. Думаю, к осени две-три песни будут жить!»
Но не суждено было родиться и жить этим песням Евгения Мартынова. Вскоре, далеко от Москвы, в родительском доме включив телевизор, я узнал, что синеглазый волшебник музыки упал прямо на ступенях своего дома и больше не вставал. А было ему, по-моему, всего года сорок два. И вот же: как говорили встарь — разрыв сердца…
То было сердце настоящего русского поэта. Поэта русской музыки.
★ ★ ★ ★ ★
7.
Никого уже нет в живых из них, из трёх создателей песни «Заклятье» — этого трагического гимна верной любви.
Ни самого старшего из них, гениального бенгальца, влюблённого в жизнь бунтаря.
Ни чернобородого «переводных дел» мастера, озорного и респектабельного одновременно, любимца женщин и верного друга.
Ни русоволосого и улыбчиво-синеокого творца песен, каждая из которых была, как сам он, похожа на сказку…
Ни-ко-го!
А для меня они живы все трое. Все — втроём, вместе. В одной песне, ими созданной.
О каждом из них по отдельности могут рассказать и рассказывают, пишут мемуары — многие люди. А вот поведать обо всех троих вместе, наверное, могу только я один. Потому что мне посчастливилось быть причастным к судьбе «Заклятья», к возникновению его русско-индийского волшебства…
И живы для меня все три создателя этой песни потому, что эта песня — жива.
Она будет жить долго. Я в это верю.
Вот заклятье моё!
И да сбудутся эти слова!
★ ★ ★ ★ ★
